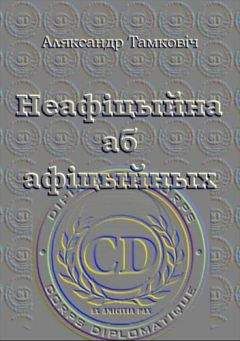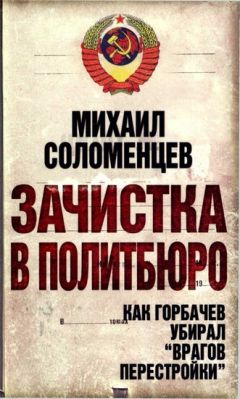— Драники будут? — ухмыльнулся Бравусов.
— Могу испечь. Со шкварками. Картошки нынче накопала много.
Довольный ответом Бравусов обнял Просю, крепко, как в молодые годы, поцеловал и направился за порог.
До Вишневки доехал быстро. Привязал коня за грушу-дичку, растущую у высоких глухих ворот. Навстречу вышел хозяин, высокий, сутулый, в старой, замасленной телогрейке, подал широкую мосластую ладонь. Бравусов перед выездом побрился, наодеколонился, потому сразу уловил смрадный запах от Круподерова. Его лицо, заросшее седой щетиной, слезливые глаза с красными веками — все говорило, что человек давно не мылся в бане.
— Я уже тебя дожидаю. Мешки привез? — хрипловатым голосом проскрипел Круподеров. — А то у меня дихвицит на тару.
— Привез. На возу. Нести? — Бравусов думал, что они посидят за столом, поговорят, как старые друзья.
— Неси. Насыплем. А тогды посидим. Перекусим, — Круподеров повернулся и потопал под навес.
Бравусов отметил, что хозяин еще больше усох, сгорбился, старческая шея, изрезанная морщинами-бороздами, торчала из воротника полинявшей клетчатой рубахи.
Под навесом, прикрытая соломой, возвышалась небольшая кучка мелкой картошки. Празднично одетому Бравусову не хотелось пачкать руки, блестящие хромовые сапоги, парадные галифе.
— Ну ты, братец, и выфрантился. Как на свиданне, — ухмыльнулся Круподеров, показав два крупных, как у лошади, желтых зуба.
— Я ж, хвактически, в люди выбрался. В Хатыничах к свату заезжал. Ты ж помнишь финагента Сыродоева? Он теперича председатель сельсовета, мой сват. Сын мой женился на его дочери. Да я и дома лохманы не ношу.
Круподерову не понравилась последняя фраза, поджал сухие, тонкие губы, начал молча набирать картошку в корзину. Бравусов держал мех, а хозяин насыпал. Молча насыпали два меха, завязали их.
— А может, еще насыплем? — глянул на Бравусова.
— Не, Павел Иванович, хватит. Своей мелочи хватает. И крупной накопали достаточно. Нынче, хвактически, благоприятный год.
И слово «мелочи» пришлось не по нутру Круподерову: намек, что он неважный хозяин и картошка у него мелкая.
Потом они обедали. На столе синела литровая банка мутноватой самогонки, стояли миска соленых огурцов, чугунок вареной картошки и сковорода яичницы. Тарелок в доме не было — их заменяли неглубокие алюминиевые миски. В одной из них желтело нарезанное сало. Круподеров разогрелся, снял телогрейку, теперь еще сильнее выпирали из-под рубахи худые, острые плечи. Это сразу бросилось в глаза гостю, потому что он помнил Круподерова могучим здоровяком, которого боялся весь район. От его кулаков трещали сельсоветские столы. В деревнях, куда он приезжал, сразу увеличивалась сдача молока, мяса, яиц, шерсти. Выбивать налоги и поставки он был большой мастер.
— Где ж твоя жена, Павел Иванович? — спросил гость.
— Катанула в Мугулев. К сыну. Внучата есть там. Ее сын, ее внуки, — вздохнул Круподеров.
— А твои дети далеко?
— Далеко. Сын в Донецке. Дочка в Караганде. Жена ж, первая, скурвилась. Ну, как меня упекли в тюрягу. Ждать она не захотела. Шахтер из соседней деревни завез ее в Донецк. Бабы есть бабы, Устинович, сам знаешь. После войны голодали люди. Я сам, бывало, корочкой хлеба да луковицей обедал. А семью обеспечивал. Вот она и отблагодарила. Твою мать, шкура барабанная, — на щетинистых щеках Круподерова тяжело шевельнулись желваки, судорожно сжался «железный» кулак искалеченной в детстве руки.
— Что ж ты хотел? Чтобы она десять лет, хвактически, постилась? Если привыкла до скоромного…
— Ну, пусть сама скурвилась. Так и детей против меня наштрополила. Сын уже знал, кто я есть. Ему тринадцать лет было. Ну, когда со мной беда случилась. Теперитька ему сорок пять. Как-то приезжал. А дочка и глаз не показывает. Ох, сволочная жизнь. Давай выпьем.
Налил самогонки в мутные стаканы.
— Давай за наших детей. Мой сын, тоже Володька, уже директор школы в Белой Горе. Ему тридцать пять. Совсем еще молодой. Жена его — дочка Сыродоева.
— Ты уже говорил про ета. Помню Сыродоева. Шустрый, верткий был финагент. Хорошо, давай за детей. Пусть и моим икнется.
Выпили, захрустели солеными огурцами.
— Как ты мог тогда погореть? Хвактичеки, опытный, матерый волк.
— Ат, по дурости. Кругликов подвел, собака. Да и я малость зарвался. У меня была большая власть в районе. Предрайисполкома был для меня не начальник. Только первый секретарь по партийной линии. Что ты! Едри твою вошь! Уполномоченный Наркомата СССР! В сорок четвертом в Минске еще были немцы, а я начал руководить в Лобановке. Контору строил в самом центре… У тебя, Устинович, сколько классов?
— Семилетка. Еще до войны окончил.
— А знаешь, сколько у меня?
— Ну, классов семь. Может, больше. Ты ж районный начальник.
— Ого, если бы семь или больше. Я бы в Минске был. А в Мугулеве так ета точно. Едри твою вошь! Учился я, братец, всего одну зиму. Окончил один класс…
— Как один? Почему? А дальше где учился?
— Дальше, Устинович, учила жизнь. Летом сломал руку. Сено топтал на возу. Отец подавал вилами. Лошадь дернула воз, я свалился — и правая рука под колесо. Только хрустнула… Четыре месяца в больнице. Летом пас овец. За семь пудов зерна. Отец сказал: заработаешь зерно — куплю чоботы. Хромовые. Овец отпас, семь пудов дали, на сапоги не хватило. Зиму просидел дома. Писать правой не мог, а левой не научился. Так и покатилось. Летом коровы, овцы, а зимой брындал по деревне, возле девчат отирался. Книжки читал. Стал секретарем комсомольской ячейки. Тут, у Вишневке. Пришел к учительнице: дайте мне справку, что я окончил четыре класса. А она: «Нет, Павличек, не имеем права». Надавала мне книг. Всю зиму читал. Весной сдал экзамены за начальную школу. А потом, как стал председателем сельсовета в Березовке, в анкетах начал писать: образование шесть классов. Напиши семь, так надо иметь аттестат. Выдвинули заместителем уполномоченного по заготовкам, послали в Мугулев на курсы партийно-советского актива. Сначала сидел там как мышь под веником. А потом осмотрелся, освоился, распетушился. Вопросы начал задавать. Получил свидетельство. Курсы етые потом выручали. Документ!
Бравусов слушал и не верил своим ушам: этот небритый, беззубый, опустившийся человек, мошенник и ворюга, был большим начальником. И он, Бравусов, боялся его, когда он приезжал в сельсовет.
— Суровое было время, Устинович. Суровые инструкции присылали прямо из Москвы. Давай молоко, мясо, яйца. Свиные шкуры, шерсть. Лупили семь шкур с мужика. Бедного, голого, голодного.
— Теперь ты жалеешь. А тогда, хвактически, издевался над людьми.
— А ты не издевался? Мало за самогонку людей посадил? Потюпу забыл? Тот сдуру затужил в тюрьме, подхватил туберкулез и загнулся через год. Дети сиротами остались. А на меня бочки катишь.
— Я не сажал. Студенцов заставил составить акт. Я жалел людей.
— Знаю, как ты жалел. Так что не оправдывайся. Мы с тобой — абое рябое. Не дай план — вытурят. Другого пришлют. А я в передовиках ходил. Бывало, Акопян, первый секретарь райкома партии, руку мне тянет: «Павел Иванович, душа любезный, будет план?» И что я скажу? «Будет, Сергей Хачатурович!» И план был. Премии получали. А Кругликов… Помнишь его?
— Почему нет? Помню, как облупленного знал.
— Умер, бедолага. Давай помянем Кругликова. Хоть я из-за него в тюрягу загремел. Хрен с ним… И моя жисть ни к черту. Век прожил, как мех сшил. А мех дырявый. Ну, будь здоров!
Выпили, не чокаясь. Бравусов почувствовал, что голова уже наливается горячей тяжестью, решил пить меньше: Прося ждет. Не хотелось здесь сидеть, пить вонючую самогонку, выслушивать слезливую исповедь тюремщика, мошенника и ворюги. Душа участкового инспектора милиции, бескомпромиссного борца с жуликами, ворами, самогонщиками, восставала против. Но на улице еще было светло, а заехать к Просе лучше в сумерках. Это обстоятельство привело к трагедии.
Бравусов вышел по нужде во двор, повернул за сарай в надежде найти туалет, но его не было, вспомнил, что хозяин ходит оправляться в сарай, чтобы навозу было больше. Пришлось спустить галифе под вишнями…
В голове настойчиво билась мысль: кто ж нами руководил? Подложил коню сена, глянул на часы, по привычке осмотрелся: нигде никого. Вошел в избу. Хозяин сидел за столом, стеклянная банка дополнена доверху. Бравусов это отметил, себе приказал: пить только для приличия, чтобы посидеть еще часок.
Круподеров налил левой рукой, как он говорил, стыканы, но поднять их не успели — у ворот замычала корова.
— Пойду загоню Рабеню. Она такая лярва… Удерет, тогда и с собакой не найдешь, — хозяин тяжело поднялся, потопал за порог. Бравусов использовал момент — вылил водку под печь, налил себе воды.
Круподеров вскоре вернулся. Раскрасневшееся скуластое лицо его налилось нездоровой багровостью — наверное, поднялось давление. Глаза с красными веками маслянисто блестели.
![Леонид Леванович - Беседь течёт в океан[журнальный вариант]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)